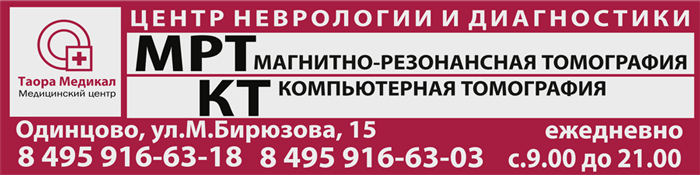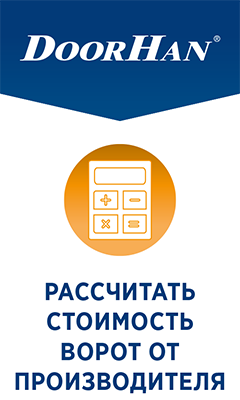.
.
.

.
Человек-легенда, заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион Советского Союза, серебряный призер Олимпиады в Токио и золотой — Олимпиады в Мехико, Почетный гражданин Одинцовского района Виктор Григорьевич КУРЕНЦОВ отмечает свой 70-летний юбилей…
.
.

.
.
Сиротский хлеб
Голодной весной 1946 года в маленькой белорусской деревушке умирали два мальчика. Старшему было около пяти, младшему — два годика. Дети перестали показываться на улице, и соседка нашла их в холодной хате, лежащих в обнимку и кутающихся в какое-то тряпье. До этого бегали в поле босиком по мерзлой еще земле, искали перезимовавшую картошку, а тут силенок не стало…
Все знали, что отец мальчиков убит на фронте, а мать попала на десять лет в тюрьму за ведро мерзлой картошки, которую, спасая детей, наковыряла на колхозном поле…
Бедствовали тогда все, но главное, почему сирот никто не приветил — боялись. Ведь это были дети арестованной «воровки»…
Но, жалея их, подсказали старшенькому, Вите: «Иди в райком, батька твой был большевиком, сгинул на фронте, может, там помогут. Только, гляди, никому не рассказывай, что мамка твоя в тюрьме, говори, что умерла…»
Младший уже не мог двигаться, и Витя, посадив его «на горбушку», так и отшагал несколько километров до райцентра…
В райкомовском коридоре было пусто. Дети, замерзшие, босые и оборванные, растерялись и не знали, что делать дальше. На дверях были таблички, но Витя не умел читать и не знал, где найти «главного начальника». И тут из дальней двери вышел мужчина в распахнутой шинели. В руках у него была целая буханка хлеба с маленьким довесочком.
Витя, увидев хлеб, забыл, зачем они сюда пришли: «Дядечка, родненький, дай хлебца!»… Мужчина сел на корточки и стал кормить детей, отламывая от буханки кусочки.
Братик не мог жевать: от истощения у него не выросли зубы. Ему жевал Витя.
Пока дети ели, мужчина расспрашивал… А потом подхватил малыша, прикутал полой шинели, крепко взял старшего за руку и, вызвав машину, повез в детский дом.
Поддержку этой руки Виктор Куренцов чувствовал до 1980 года. В этом году их спаситель, легендарный командир партизанского отряда, Герой Советского Союза, а с 1965-го — первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Миронович Машеров трагически и загадочно погиб…
До сего дня Виктор Куренцов с глубочайшим уважением вспоминает этого человека, которому водитель в тот судьбоносный для погибающих детей день ворчливо попенял: «Много их нынче, Петр Миронович, всех не соберешь»…
И которому в детском доме тоже сказали: «Петр Миронович, где вы их набираете, у нас уже полный комплект»… Так же не может забыть Виктор Григорьевич запах и вкус того хлебушка: «Сколько я перепробовал деликатесов разных за свою жизнь, но тот хлеб — и умирать буду — не забуду. Ничего вкуснее не ел»…
В детском доме Витю поставили на стол и стали I определять, сколько же он I прожил на белом свете. Год и день рождения мальчику — назначили. А как звали отца и маму, он запомнил — тетя рассказала …
В детском доме, куда Машеров устроил старшего мальчика (брата определи-
ли в другой, для малышей), Витя стал сто пятидесятым. Многие дети — после концлагерей. Крайне истощенные, больные малокровием, они медленно угасали, даже от солнца прятались в тенек. А Витя — крестьянская жилка — и копал, и дрова колол для печей, помогал летом конюху косить траву, столяру — пилить и строгать доски.
Но больше всего ему нравилось бывать у кочегара дяди Феди. «Я так привязался к нему, видимо, потому, что он был ласков со мной, часто гладил меня по голове, рассказывал, как в революцию участвовал во взятии Зимнего дворца, — вспоминает Виктор Григорьевич. — Он был старенький и болел. И мне хотелось сделать ему что-то приятное».
И хоть в детдоме тоже не наедались досыта, Витя начал оставлять кусочек хлебца от своей пайки и тайком (воспитатели строго следили, чтобы дети съедали все сами) относил его дяде Феде. Тот почему-то всегда плакал, получая этот хлебушек, и никогда не съедал его при мальчике. Когда он умер, у него под подушкой и нашли Витины засохшие кусочки. А ведь старик, как и все, голодал… Как он хотел ими распорядиться, остается тайной, но есть хлеб, протянутый рукой сироты, не мог…
В детском доме Витя, несмотря на скудное питание, быстро окреп, под¬рос, и однажды Саша Исаев почему-то сказал ему: «Витек, мы умрем, а ты будешь сильный, ты живи за нас».
Этих слов маленького страдальца Куренцов не забыл.
Когда у него было уже 150 золотых медалей, он положил чемпионские награды в чемоданчик и поехал в свой детский дом.
Увы, того давно не существовало.
.
.


.
.
Виктор Григорьевич нашел старенькую учительницу. Был еще жив и завхоз.
Втроем они подошли к клену, который Витя посадил в далекие детские годы и который дождался встречи с ним, уже знаменитым.
Куренцов повесил на клен ленты со своими спортивными наградами и сказал: «Нас здесь было тогда 150. За каждого я завоевал медаль». И заплакал. И старики заплакали…
И еще однажды собрал Куренцов воедино свое золото. Он сложил свои за¬слуги перед Отечеством, весившие, как 15 буханок хлеба, в «дипломат» и поехал в «святая святых» того времени — в приемную самого Брежнева.
Куренцов поселился в Одинцово в 1965 году и решил, что городу просто не¬обходим спорткомплекс. Идею построить «Искру» разделяли многие, но пробиваться через множество препон приходилось «автору». Куренцов не пасовал, удивляя своих союзников в благом деле тем, что добивался, казалось бы, невозможного. Но наступил момент, когда стало ясно: все, «вес не взят», дальше — что об стенку горохом.
И вот тогда Куренцов в приемной «Самого» раскрыл дипломат, набитый наградами, и резко сказал: «Раз так, заберите это обратно! Без продолжения в молодом поколении все это не имеет смысла». Интересных, а порой и детективных подробностей у этой истории столько, что она заслуживает отдельного разговора. Главное же — неоспоримый факт: без Куренцова «Искры» в Одинцово точно не было бы.
.

.
.
Цена «золотого дождя»
Когда наши спортсмены летели на Олимпиаду в Мехико, в группе поддержки был и космонавт №2 Герман Титов. Куренцов подружился с ним и в знак уважения решил подарить ему свою золотую медаль. Тот просто опешил: «Да ты что, Витя? Ты ж за неё столько сил положил, это ж память какая, это ж дорогого стоит!»
«Друзья все равно дороже, бери, не спорь, у меня медалей много!» — настоял на своем Куренцов.
И еще был один случай, когда Куренцов отдал свою медаль. И тоже — Титову, только на этот раз — Владиславу. Шахтер, потерявший во время аварии обе руки, стал в 60-е годы писателем, опубликовав автобиографическую повесть «Всем смертям назло». Писал Владислав, держа карандаш во рту.
Организаторы первенства СССР по тяжелой атлетике в Луганске в 1968 году решили, что победителей будет поздравлять только что прославившийся на всю страну их земляк Владислав Титов. Тем более что до аварии он всерьез увлекался штангой. К Титову приставили ассистентку, которая и должна была надевать на победителей ленту с медалью.
Когда ассистентка вручила награду Куренцову, он тут же снял ленту с медалью, свернул ее и положил в нагрудный карман Титову: «Это твоя медаль, Слава, ты давно ее заслужил»…
Несчастный случай, происшедший с Куренцовым в Мехико, многим показал, как достаются медали, что приходится превозмогать и какой иметь характер, чтобы в руки тебе упала еще одна капля «золотого дождя» наград…
На первой же тренировке он рассек отскочившей штангой средний палец руки. Хлынула кровь. Японцы, следившие за Куренцовым как за главным соперником лидера своей команды, снимали каждый его шаг, на пленке был зафиксирован и его уход из зала, и следы крови на ковровой дорожке.
Палец зашивали без наркоза, вживую, а для страховки Куренцова держал богатырь Леонид Жаботинский. Виктор смеялся потом: «Леня, ты ж меня чуть не задушил!»
Куренцов становился балластом команды. Начальство на «разборе полетов» выдало атлету по полной программе: что он самонадеян, что не думает об ответственности и о доверии Родины. Даже предположили, что он травмировал себя специально, чтобы увильнуть от соревнований…
До начала соревнований оставались считанные дни, штангисты усиленно тренировались. Куренцов тоже приходил в зал, давал друзьям советы, иногда брал штангу здоровой рукой — только и всего.
Японцы думали, что Куренцова даже не заявят. Но он уговорил тренера. В жиме он ставит олимпийский рекорд — 152 с половиной килограмма, обойдя японского атлета на 12 с половиной килограммов! Во втором движении для первого подхода заказывает 135 кило¬граммов, но штанга вырывается из рук и падает.
Он понял, что открылась рана: по
руке сквозь лейкопластырь (повязки не разрешались) потекла кровь. Лопнул шов. Подходит второй раз, рвет, но штанга валится ему за спину. Наши буквально ахнули. Все понимали, что если он уронит штангу в третьем подходе, его снимут с соревнований. И — прощай, Олимпиада, прощай, Мексика!.. Ассистенты вновь установили штангу, и тут в полной тишине замершего зала Куренцов услышал голос главного тренера команды Воробьева: «Виктор, вспомни Сталинград!»
Потом Куренцов признавался: «Меня словно током пронзило».
Он взял вес и, опустив штангу на по¬мост, что было сил заорал в зал: «Кто еще хочет Сталинграда?!»
Крик потонул в буре аплодисментов.
Получив право идти на последнее движение-толчок, Куренцов заказал 175 килограммов и вытолкнул. А к третьему подходу велел поставить, казалось бы, нереальный в его ситуации вес — 187,5 килограмма. И он взял его, установив с незажившей еще рукой мировой рекорд, который никто не мог побить 10 лет!
«Десять лет — огромный срок для тяжелой атлетики. Десятки, если не сотни атлетов штурмовали этот рекорд безуспешно, проклиная и восхищаясь автором, — пишет в своей замечательной книге о Куренцове «Птенцы гнезда Машерова» известный писатель СП. Мосияш. И добавляет: «К Виктору про¬толкался американский журналист: «Что вы имели в виду, прокричав слово Сталинград?» «Как что? Победу». «Но ведь и ваше имя, господин Куренцов, означает победу». «Да, — согласился Куренцов, — но я как-то не задумывался об этом»…
Пятикратный чемпион мира, семи¬кратный чемпион Европы, девятикратный чемпион Советского Союза (в глав¬ной газете страны, в «Правде», писали, что нужно совершить спортивный под-
виг, чтобы хоть однажды выиграть медаль чемпиона страны, а повторить этот успех девять раз может лишь поистине легендарный атлет), серебряный призер Олимпиады в Токио, золотой — в Мехико, он всегда относился к своей славе сдержанно. С постоянством, которое порой переходило в жесткое упрямство, он считал — и считает! — что всем обязан своей стране, своей Родине, которая не дала погибнуть ему, послевоенному сироте, дала возможность достичь все¬мирной славы. И эту славу он неизменно клал к ногам своей Отчизны, которая далеко не всегда была к нему добра и справедлива…
На первенстве мира в Берлине в 1965 году у Куренцова появился серьезный соперник — польский атлет Вольдемар Баштановский. Он был многоопытен, на двух Олимпиадах взял «золото» в легком весе и теперь замахивался на первенство и в полусреднем. Он взял вес в 175 килограммов, и главный тренер Аркадий Никитич Воробьев вздохнул: «Все, поляк чемпион».
Куренцов на это мгновенно предложил заказать толчок на семь килограммов больше. Тренер не принял заявку всерьез: «Во-первых, не потянешь, во-вторых, сломаешься. Ну, на килограмм-два — куда ни шло. Но на семь и не думай, опозоримся». А сияющий поляк, проходя мимо Куренцова, насмешливо обронил: «Ну что, вставил я тебе перо в одно место?»
Поддержать Куренцова решил тренер Каплунов, и тайком от Воробьева они заказали предложенный Куренцовым вес.
«Я тебе покажу перо! — накалялся оскорбленный Куренцов. — Я с тебя спесь собью!»
Он вышел на помост, стряхнул с ладоней пыль магнезии и рванул рекордную штангу. Поднял над собой, замер, ожидая команды судьи, что вес взят.
Обычно она следует через две-три секунды, но вот прошло три секунды, еще три, и еще… «Он что, уснул там?» — почти теряя сознание от страшного напряжения, подумал Куренцов.
Наконец — кажется, вечность прошла! — взмах судейской руки…Виктор бросил штангу и, отключившись, рухнул рядом на колени. Подбежавшие товарищи подхватили его и стали качать… А он и ночью не мог заснуть, переживая, что брякнулся, как барышня. И не оправдывая себя тем, что судья то ли случайно, то ли намеренно, но очевидно для всех передержал штангу…
Поляку Куренцов при встрече не удержался и «вернул перо»…
На первенстве мира в Варшаве в сентябре 1969 года Виктор Куренцов с суммой 467 килограммов стал первым в своей весовой категории. С начала своей спортивной карьеры он поднимался на высшую ступеньку пьедестала поче¬та в 131-й раз. Но в соревнованиях приходилось участвовать до семи-девяти раз в году, на каждой тренировке поднимать в общей сложности до 20 тонн железа, обливаясь потом под властный крик тренера: «Стоять!»
И все это в конце концов «аукну¬лось». Дома у него хлынула горлом кровь. Приехала «скорая», и врач, остановив кровотечение, решительно потребовал госпитализации, которая (надо знать характер Куренцова) так тогда и не состоялась…
Свояк увез его лечиться на… рыбалку, на Амур: «Какая разница, где тебе умирать?» И болезнь отступила.
.


.
.
Соколы и грунтовые воды
Он попал в руки врачей много лет спустя. На зтот раз болезнь ударила коварно и без промаха и свалила уникального силача. Два года не мог ходить, ползал на коленках: «Но ты о слезливом не пиши…»
Полковник, десантник, он провожал на войну дочку. Его Оксанка, медик по образованию, улетала в Чечню. Он ничего не мог изменить…
Сегодня в квартире прославленного человека вы не увидите «иконостаса» медалей, дипломов и других исторических реликвий, которых у Куренцова -воз и маленькая тележка. Это хранится не на показ. Но на вопрос о дочери он тут же достает ее грамоты и благодарности знаменитых десантников за медицинскую службу в Чечне. Они все время под рукой. И считает, что его и «шибануло» после того, как он проводил своего ребенка, свою девочку под пули…
Выстоял и в этой беде, поднялся и, кажется, совсем не изменился. Даже палочка, с которой ему теперь приходится ходить, словно, так, ерунда, легкомысленная бутафория. Как будто он просто оказывает ей джентельменскую услугу, демонстрируя окружающим.
Дел и сегодня у него — по горло. Затеял огромной важности программу -чтобы физкультура стала доступной и необходимой в каждой семье. Как всегда, нашел поддержку у главы района, Александра Георгиевича Гладышева. В самые трудные для страны и района годы пустых прилавков и невыплат зарплат они стали и единомышленниками, и соратниками, и друзьями.
Куренцова тогда называли не иначе как министр иностранных дел Одинцовского района. Куда только он ни ездил, налаживая партнерские связи, чтобы обеспечить район продуктами.
Сегодня в «битве за физкультуру» объединил олимпийских чемпионов (их в районе десять) и земляков — чемпионов мира, Европы и России (52 человека).
Энергия, желание довести до по¬бедного конца начатое дело — прежние. И по-прежнему — открытая, прекрасная улыбка, когда он радуется друзьям или рассказывает про свои хохмы. Здесь за ним тоже не заржавеет.
На первенстве мира в США, проходившем в Колумбийском университете, американцы решили во что бы то ни стало взять реванш за свою неудачу в Мехико. Президент США учредил для команды-победительницы кубок, на изготовление которого ушел пуд серебра.
Но русские, несмотря на самые коварные ухищрения (чего только ни предпринималось, чтобы даже не допустить нашу команду к соревнованиям), собрали почти все золото. А самое главное, взяли и президентский серебряный кубок.
Дома, в аэропорту неподъемную реликвию доверили Куренцову, чтобы назавтра он привез кубок на прием в ЦК, где должны были чествовать победителей. Но в аэропорту Куренцов так обрадовался жене с маленьким сынишкой, что американский кубок совсем вы¬летел из головы.
В Спорткомитете, куда он на следующий день явился, естественно, с пустыми руками, его сразу спросили про кубок. «Ох, дома забыл!» — первое, что пришло в голову, брякнул Куренцов. Но он прекрасно знал, что дома кубка нет: или в аэропорту забыл, или в такси…
Помчался в Шереметьево: «Дернуло же президента с этим кубком! Не дай Бог, не найду, шуму сколько будет…». Но международного скандала не случилось.
Куренцов увидел приз команды еще издали. Он так и стоял у таможни, где его забыли. Но теперь — доверху забитый мусором и окурками. А уборщица, мывшая пол, ругалась: «Ироды, кто ж придумал такую тумбу под урну? Ведь не перевернешь, чтоб мусор высыпать!»
«Айн момент, бабуся, сейчас все уладим», — и повеселевший от такой удачи Куренцов подхватил кубок и понес к выходу. Странно, что никто не узнал и не остановил знаменитого атлета. А он вытряхнул из серебряного высокопоставленного изделия неподобающее содержимое и помчался на прием рапортовать о победе в Америке…
Не узнали его и совсем недавно на родной площади у административного здания в Одинцово. Куренцов остановился у своего бюста, установленного ему как почетному гражданину города, и залюбовался красавицами-невестами. Был день свадеб, и молодожены по традиции фотографировались у пруда, а потом возвращались к загсу.
И наш герой не удержался, схохмил. Невинно улыбаясь, он предложил одной из пар, проходившей мимо: «Граждане брачующиеся, не хотите ли сфотографироваться за умеренную плату вместе с оригиналом этого бюста?»
Невеста заулыбалась, но скорее всего чему-то своему, а жених, заслоняя ее, строго сказал: «Ладно, дед, иди, как-нибудь в другой раз»… А он продолжил хохму в кабинете главы района, с самым серьезным видом жалуясь, что вот неудачный вышел бюст, непохожий. Но увидев, что его жалобу принимают всерьез, дескать, ну, что ж теперь поделаешь, как уж вышло, весело расхохотался и рассказал про «деда, которого вежливо послал брачующийся».
Был случай, когда Куренцова «послали» и с мясокомбината, куда он, ставший не нужным государству, устроился грузчиком, чтобы кормить семью. После успешно пройденного испытательного срока, оформляясь, написал про себя в анкете все как есть. И что он олимпийский чемпион, и чемпион мира…
В бригаду прибежал красный от гнева, запыхавшийся директор: «Кто тут Куренцов? Чтоб завтра и ноги твоей на комбинате не было! Олимпийский чем¬пион! А потом меня снимут, а его поставят!..»
Бригадир пожалел, что Виктора не предупредили заранее. Да кто же мог
подумать, что человек, выдающий себя за «завязавшего» алкоголика (это был самый удобный предлог не участвовать в бригадных застольях), такая знаменитость! Сам бригадир был профессором, доктором наук, зарабатывал на квартиру. В графе «образование» написал едва ли не три класса. Его зам, кандидат наук, тоже прикинулся сермяжным неучем, он зарабатывал на машину…
Зато за кордоном в разгар звездной карьеры спортсмена не жалели красок. «Почему побеждает Куренцов? — писал какой-то спортсмен. — Что ж ему не побеждать, если он имеет собственный магазин, живет в четырехэтажном особняке, там у него и солярий, и спортивный зал, и офис. А вот мы живем на нищенскую зарплату всего в две с половиной тысячи долларов»…
Благодаря этой «утке» Куренцову дали трехкомнатную квартиру в Одинцово, в самом лучшем по тем временам «генеральском» доме. Высокое военное начальство (ведь Куренцов был военным, служивым человеком) решило перестраховаться: а вдруг «они» решат проверить, в каких условиях живет легендарный чемпион, а он ютится с семьей в старой пятиэтажке в двух маленьких комнатушках… В «генеральской» квартире Куренцов живет вот уже сорок лет.
Имел высокую должность — от зарплаты и машины отказался, оставив в качестве необходимого «прожиточного минимума» только свою военную пенсию. На валюту, заработанную в загранкомандировках и загранпоездках (оплата лекций, к примеру), приобретал в кризисные 90-е лекарства для района, одноразовые шприцы для детской больницы. Где бы ни бывал за границей, свободное время проводил в тех библиотеках, где есть русские фонды.
Его интересовало, что думают о нашей стране, что о ней пишут, что изучают. И сделал вывод, с которого Куренцова не свернешь: «Россию всегда боялись, поэтому изучают в основном наши слабые места и этим нас бьют».
Для себя лично Куренцов в «высших сферах» никогда ни о чем не просил. Но когда заболела жена, а денег на теплые страны, куда ей настоятельно рекомендовали поехать врачи, не было, «знаменитый олимпиец с пустыми карманами» отправился к старым знакомым в Министерство иностранных дел. И Куренцова с супругой отправили в Италию.
Его назначили ответственным за безопасность нашего посольства и его жилого массива. Однако новоиспеченному дипломату поставили условие: обязательно учить язык страны пребывания. Он пообещал послу выучить итальянский за… три месяца. И тот, владевший итальянским в совершенстве, с восхищением принял экзамен у Куренцова именно через три месяца: «Браво, Виктор Григорьевич, рад за вас».
Кому-то Куренцов может показаться этаким простачком, деревенщиной. Как бы не так! Однажды в престижном учебном заведении он вступил в «литературную дуэль» с преподавателем. Тот начинал стихотворение, Куренцов заканчивал. Или наоборот. Маститый гуманитарий едва не остался побежденным. А остальные, в большинстве своем едва знающие поэзию «в рамках школьной программы», сидели и восхищенные, и пристыженные…
Он никогда не превозносился и не гордился собой. Вот и сегодня любит повторять: «Да мы что, мы — грунтовые воды. Это соколы летают в небесах…» И радостно при этом улыбается, словно очень довольный тем, что ему выпала именно эта доля — после невероятного взлета влиться в никому не видные грунтовые воды.
Только вот что будет со всеми нами, если иссякнут, пересохнут, уйдут «грунтовые воды», и мы останемся только с соколами, гордо реющими где-то там, в далеком в поднебесье?..
.

.
ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ: