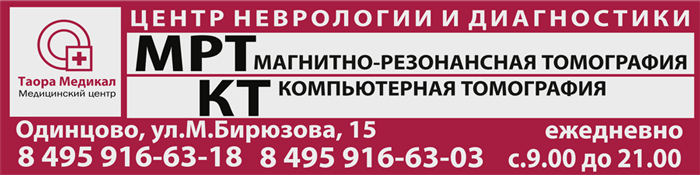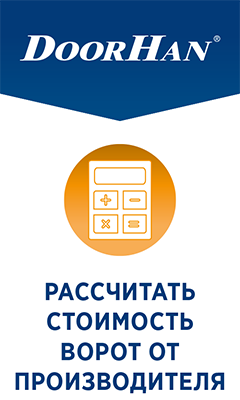Седьмой документальный рассказ Жанны Сергеевны Наджаровой «Школьные годы военные» из цикла «Война глазами детей» («Одинцовская НЕДЕЛЯ» №2) растревожил память Александры Игнатьевны Пилипович из Заречья.
Волнуясь и в то же время стесняясь нахлынувших чувств, она позвонила в редакцию: «Я закончила первый класс сразу после войны»…
Мы встретились. Квартира, где главное богатство — книги, а главные сокровища — семейные фотографии, в том числе и тех давно минувших послевоенных лет…
Вот одна из них — серенькая, мутная. Бревенчатый домик с маленькими оконцами. Сруб поставил перед войной отец. С фронта не вернулся, погиб сразу. Покосились за войну израненные осколками вражеских бомб брёвна, но всё-таки устоял сруб. Его выровняли, подняли крышу и потихоньку обжили дом, затеянный убитым Игнатием. Но толстые смертельные «занозы» так и остались в стенах. Наверное, чтоб внуки погибшего заглянули в страшную азбуку войны…
В белорусской деревне, на кусочке родной земли доживает покинутый ныне дом. Рядом доживают яблони. «Помните ли вы меня?» — разрыдалась в последний свой приезд сюда Александра Игнатьевна. А больше возле осиротевшего крылечка спросить уже некого…
Каким же счастьем было в 70-е, 80-е годы получить квартиру! И только потом, на закате жизни, мы понимаем, что наш пол — на чужом потолке, а наш потолок — под чужим полом… Вот и «въехал» в благоустроенную зареченскую квартиру сокровенным жильцом без прописки маленький родительский дом с прощальным садом, с печкой, где мама после войны пекла неизвестно из чего хлеб, вкус которого невозможно забыть, блины, куда уж совершенно точно добавляли муку из желудей — так они горчили…
В тот день блины стояли большой стопкой на столе — к обеду. В доме была только она, Шура. Зашла и поздоровалась чужая тётенька: «Ты одна? Курицу-то выгони, она же тут вам всё загадит». Пока Шура гонялась за вбежавшей в дом курицей, женщина сгребла со стола все блины и, прижав их к себе, кинулась со двора.
Девочка схватила палку: «Отдайте, отдайте!» Но та даже не обернулась. Всё же Шура догнала её и достала палкой по спине. И остановилась в страхе. До сих пор помнит она резкий стук этого удара. Словно и не к живому телу прикоснулась палка: от голода под кофтой у женщины были одни кости…
А как они с мамой и братьями голодали в лесу, скрываясь от немцев! Все, бежавшие из деревни, занятой врагами, ютились в норах-землянках, вырытых под корнями самых больших деревьев. Сверху прилаживали доски, ветки, чтобы укрытие не осыпалось. Она помнит родник, из которого черпали воду берестяными кулёчками. Настал момент, когда несколько женщин решились идти в деревню: «Всё равно умирать — от голода или от пули. А вдруг да и дадут какой еды…» И только вышли на опушку, навстречу парнишка: «Всё, всё! Наши пришли!»
…

…
До того как деревню заняли немцы, их часто бомбили. Не раз бывало, что вражеская авиация налетала, когда шли с мамой в лес или в поле. Спасались в речке. Узенькая, а течение быстрое. У берегов — густая осока. Прыгали в воду, голову прятали в прибрежные заросли, за них и цеплялись. «Не отпускай только ручки, держись, как можешь», — уговаривала мама, переползая по мелкой воде от одного ребёнка к другому.
Однажды бомбили долго, и когда мама подошла забрать Шуру, та уже посинела от холода, и ручки, сведённые судорогой страха, еле-еле удалось разжать… Хранится в зареченской квартире и фотография той маленькой речушки, спасавшей уцепившихся за осоку детишек, наверняка и не вспоминавших в те страшные минуты волшебную сказку про злых гусей-лебедей и про отчаянную мольбу маленькой девочки: «Речка, речка, спрячь меня!..»
Но вот и та самая фотография, которую Александра Игнатьевна хотела показать как самую главную послевоенную. Вот он — её первый класс. Они проучились год — далеко не одногодки. Те, кому исполнилось семь в 1941-м, в 1945-м пошли в школу 12-летними. Да и школы как таковой не было — «квартировали» в большом пустом доме. Столы — доски на подпорках, стулья — тоже доски. Писали между строчек на старых газетах. Ручек не было, к прутикам приматывали льняными нитками металлические пёрышки. Чернила делали из сажи да из сока чёрных «волчьих» ягод…
«Мальчиков уже никого нет в живых… А вот эту девочку, дочку учительницы, зарезал жених… А вот тот, самый высокий, раскрутил нас, малышню, вцепившихся друг в друга (такая была игра), а я была последняя и не удержалась, сорвалась да и разбила голову о печь…Через много лет гостила у мамы. К дому на мотоцикле подъехал седой дед: «Пришёл поглядеть на ту, которой голову разбил»… Коленька, это ты? Если бы не назвался, никогда бы не узнала…»
…За окном на балконе висит пучок калины. Тронь каждую ягодку — из плена нежной кожицы вырвется алая горькая капля. К каждому лицу на этой фотографии нежно, с любовью прикасается светлой памятью Александра Игнатьевна. Неудержимо текут слёзы разлуки и прощания. Прощания с торжествующим или затаённым ожиданием счастья, которым, вопреки горю, было наполнено их тяжёлое послевоенное детство.
Нищие, голодные, осиротевшие, до десяти километров пешком и босиком в школу — учились, пели, не по детски работали, но какие там депрессии -радовались, дружили, надеялись.
Мы, сегодняшние, с нашим неутолённым благополучием, не можем вместить их горе. Но обязаны преклониться перед искренней чистотой их светлых, как та весна в сирени и первых цветах, надежд. Перед безоглядным самопожертвованием поколения, встававшего на ноги после войны.
..
..
ПОДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЬЮ: